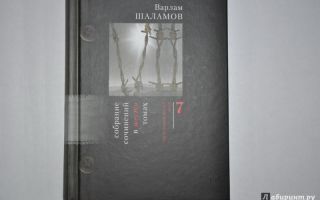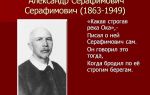Анализ сборника Шаламова «Колымские рассказы» | Литерагуру
Варлаам Шаламов – писатель, прошедший три срока в лагерях, переживший ад, потерявший семью, друзей, но не сломленный мытарствами: «Лагерь — отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно.
Человеку — ни начальнику, ни арестанту не надо его видеть. Но уж если ты его видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна.
Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде».
Основные темы в сборнике «Колымские рассказы»
Сборник «Колымские рассказы» — главное произведение писателя, которое он сочинял почти 20 лет. Эти рассказы оставляют крайне тяжелое впечатление ужаса от того, что так действительно выживали люди.
Главные темы произведений: лагерный быт, ломка характера заключенных. Все они обреченно ждали неминуемой смерти, не питая надежд, не вступая в борьбу.
Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация — вот что находится постоянно в центре внимания писателя.
Все герои несчастны, их судьбы безжалостно сломаны. Язык произведения прост, незатейлив, не украшен средствами выразительности, что создает ощущение правдивого рассказа обычного человека, одного из многих, кто переживал все это.
Анализ рассказов «Ночью» и «Сгущенное молоко»: проблемы в «Колымских рассказах»
Рассказ «Ночью» повествует нам о случае, который не сразу укладывается в голове: два заключенных, Багрецов и Глебов, раскапывают могилу, чтобы снять с трупа белье и продать.
Морально-этические принципы стерлись, уступили место принципам выживания: герои продадут белье, купят немного хлеба или даже табака. Темы жизни на грани смерти, обреченности красной нитью проходят через произведение. Заключенные не дорожат жизнью, но зачем-то выживают, равнодушные ко всему.
Проблема надломленности открывается перед читателем, сразу понятно, что после таких потрясений человек никогда не станет прежним.
Проблеме предательства и подлости посвящен рассказ «Сгущенное молоко». Инженеру-геологу Шестакову «повезло»: в лагере он избежал обязательных работ, попал в «контору», где получает неплохое питание и одежду.
Заключенные завидовали не свободным, а таким как Шестаков, потому что лагерь сужал интересы до бытовых: «Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила.
Внутри все было выжжено, опустошено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов». Шестаков решил собрать группу для побега и сдать начальству, получив какие-то привилегии. Этот план разгадал безымянный главный герой, знакомый инженеру.
Герой требует за свое участие две банки молочных консервов, это для него предел мечтаний.
И Шестаков приносит лакомство с «чудовищно синей наклейкой», это месть героя: он съел обе банки под взорами других заключенных, которые не ждали угощения, просто наблюдали за более удачливым человеком, а потом отказался следовать за Шестаковым. Последний все же уговорил других и хладнокровно сдал их. Зачем? Откуда это желание выслужиться и подставить тех, кому еще хуже? На этот вопрос В.Шаламов отвечает однозначно: лагерь растлевает и убивает все человеческое в душе.
Анализ рассказа «Последний бой майора Пугачева»
Если большинство героев «Колымских рассказов» равнодушно живут неизвестно для чего, то в рассказе «Последний бой майора Пугачева» ситуация иная. После окончания Великой Отечественной войны в лагеря хлынули бывшие военные, вина которых лишь в том, что они оказались в плену.
Люди, которые боролись против фашистов, не могут просто равнодушно доживать, они готовы бороться за свою честь и достоинство. Двенадцать новоприбывших заключенных во главе с майором Пугачевым организовали заговор с целью побега, который готовится всю зиму.
И вот, когда наступила весна, заговорщики врываются в помещение отряда охраны и, застрелив дежурного, завладевают оружием. Держа под прицелом внезапно разбуженных бойцов, они переодеваются в военную форму и запасаются провиантом. Выйдя за пределы лагеря, они останавливают на трассе грузовик, высаживают шофёра и продолжают путь уже на машине, пока не кончается бензин.
После этого они уходят в тайгу. Несмотря на силу воли и решительность героев, лагерная машина их настигает и расстреливает. Один лишь Пугачев смог уйти. Но он понимает, что скоро и его найдут.
Покорно ли он ждет наказания? Нет, он и в этой ситуации проявляет силу духа, сам прерывает свой трудный жизненный путь: «Майор Пугачев припомнил их всех – одного за другим – и улыбнулся каждому. Затем вложил в рот дуло пистолета и последний раз в жизни выстрелил». Тема сильного человека в удушающих обстоятельствах лагеря раскрывается трагически: его или перемалывает система, или он борется и гибнет.
«Колымские рассказы» не пытаются разжалобить читателя, но сколько в них страданий, боли и тоски! Этот сборник нужно прочесть каждому, чтобы ценить свою жизнь.
Ведь, несмотря на все обычные проблемы, у современного человека есть относительная свобода и выбор, он может проявлять другие чувства и эмоции, кроме голода, апатии и желания умереть. «Колымские рассказы» не только пугают, но и заставляют взглянуть на жизнь по-другому.
Например, перестать жаловаться на судьбу и жалеть себя, ведь нам повезло несказанно больше, чем нашим предкам, отважным, но перемолотым в жерновах системы.
Источник: https://LiteraGuru.ru/analiz-sbornika-shalamova-kolymskie-rasskazy/
Варлам Шаламов. Собрание сочинений
Колымские рассказы; Левый берег; Артист лопаты. – Библиогр.: с. 613-617.
Шаламов, Варлам Тихонович. Собрание сочинений. Т.
2, Колымские рассказы: В 4-х т. / [Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской]. – М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998. – 508, [1]с.
Содерж.: Очерки преступного мира; Воскрещение лиственницы; Перчатка, или КР-2; Анна Ивановна: Пьеса.-Библиогр.: с. 502-507.
Шаламов, Варлам Тихонович. Собрание сочинений. Т. 3, Стихотворения: В 4-х т. / [Сост.
, подгот. текста и примеч. И. Сиротинской]. – М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998. – 525, [1]с. Библиогр.: с. 450-509.
Шаламов, Варлам Тихонович. Собрание сочинений. Т. 4, Четвертая Вологда; Вишера: Антироман; Эссе; Письма: В 4-х т. / [Сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской]. – М.: Худож. лит.: ВАГРИУС, 1998. – 493, [1]с.
Шаламов, Варлам Тихонович. [Новая книга]: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела / В. Шаламов; [Сост., предисл., примеч. И. П. Сиротинской]. – М.: ЭКСМО, 2004. – 1066 с.
Шаламов, Варлам Тихонович. Рассказы, не вошедшие в сборники: Шахматы и стихи. Глухие. Вставная новелла. Жук // Шаламовский сборник: Вып.
1 / Есипов В. В., [Сост. В. В. Есипов]. – Вологда: ПФ “Полиграфист”, 1994.
[Из воспоминаний]: Герман Хохлов. Берзин. Несколько слов о Хренове. Павел Васильев. Александр Константинович Воронский. Разговор с Михаилом Светловым. Пастернак // В. Шаламов. Собрание сочинений в шести томах. – Т. 4. – М., 2005
Шаламов В. Т.
Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Эссе и заметки; Записные книжки 1954–1979. – М., 2005.
Первый вечер Осипа Мандельштама / [Запись Варлама Шаламова] // Российские вести. – 1997. – 04.09
Поэт изнутри (Секреты стихов или стихи стихов) // В. Шаламов. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия. Эссе. – М., 1996. – с. 434-441.
Как мало изменилась Расея. Из записок о Достоевском // Литературная газета. – 1997. – 18.06
Звуковой повтор – поиск смысла // Семиотика и информатика. – Вып. 7. – М., 1976
Письма В. Т. Шаламова к Е. Б. Лопатиной // Звезда. – 1994. – № 1
О письме в «Литературную газету» // Шаламовский сборник: Вып.
1 / Есипов В. В., [Сост. В. В. Есипов]. – Вологда: ПФ “Полиграфист”, 1994.
Письмо Ивановой-Романовой // Шаламовский сборник: Вып. 3 / [Сост. В. В. Есипов]. – Вологда: “Грифон”, 2002.
Источник: https://www.booksite.ru/varlam/compose.htm
«Колымские рассказы» Шаламова (сочинение) | Свободный обмен школьными сочинениями 5-11 класс
Варлам Тихонович Шаламов в своем творчестве отразил тему лагерей в русской литературе. Поразительно точно и достоверно писатель раскрывает весь кошмар лагерного быта в книге «Колымских рассказов».
Рассказы Шаламова пронзительны и неизменно оставляют тягостное впечатление у читателей. Реализм Варлама Тихоновича не уступает мастерству Солженицына, который писал раньше.
Казалось бы, Солженицын достаточно раскрыл тему, тем не менее манера изложения Шаламова воспринимается как новое слово в лагерной прозе.
Будущий писатель Шаламов родился в 1907 году в семье вологодского священника. Еще в отрочестве он начал писать. Шаламов закончил Московский университет. Писатель провел в тюрьмах, лагерях и ссылках многие годы.
Впервые его арестовали в 1929 году, обвинив в распространении фальшивого политического завещания В. Ленина. Этого обвинения оказалось достаточно, чтобы попасть в судебную машину на двадцать лет. Вначале три года писатель провел в лагерях на Урале, а затем с 1937 года его отправляют на Колыму.
После ХХ съезда КПСС Шаламова реабилитировали, но это не компенсировало потерянные годы жизни.
Идея описать лагерную жизнь и создать ее эпос, удивительный по силе воздействия на читателя, помогла Шаламову выжить. «Колымские рассказы» уникальны беспощадной правдой о жизни людей в лагерях. Людей обыкновенных, близких нам по идеалам и настроениям, невиновных и обманутых жертв.
Главная тема «Колымских рассказов» – существование человека в нечеловеческих условиях. Писатель воспроизводит виденные им неоднократно ситуации и атмосферу безысходности, морального тупика. Состояние героев Шаламова приближается к «зачеловеческому».
Заключенные каждый день теряют физическое здоровье и рискуют расстаться с психическим. Тюрьма отнимает у них все «лишнее» и ненужное для этого страшного места: их образование, опыт, связи с нормальной жизнью, принципы и моральные ценности.
Шаламов пишет: «Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи, – ни начальники, ни подчиненные.
Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута. Там много такого, что человек не должен знать, а если видел – лучше ему умереть».
Шаламову досконально известен лагерный быт. Он не питает иллюзий и не внушает их читателю. Писатель чувствует всю глубину трагедии каждого, с кем столкнула его судьба за долгие двадцать лет. Все свои впечатления и переживания он использует для создания персонажей «Колымских рассказов».
Он утверждает, что нет такой меры, чтобы измерить страдания миллионов людей. Для неподготовленного читателя события произведений автора кажутся фантасмагоричными, нереальными, невозможными.
Тем не менее мы знаем, что Шаламов придерживается истины, считая искажения и перегибы, неправильную расстановку акцентов непозволительными в данной ситуации. Он рассказывает о жизни заключенных, их нестерпимых порой страданиях, труде, борьбе за еду, болезнях, смертях, гибели.
Он описывает события, ужасные в своей статичности. Его жестокая правда лишена гнева и бессильного разоблачительства, уже нет сил возмущаться, чувства умерли.
Материалу для книг Шаламова и проблематике, из него вытекающей, позавидовали бы писатели-реалисты XIX века. Читатель содрогается от осознания того, насколько «далеко» ушло человечество в «науке» придумывания пыток и мучений себе подобных.
Вот слова автора, сказанные от своего имени: «Заключенный приучается там ненавидеть труд – ничему другому он и не может там научиться. Он обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям, становится эгоистом. Возвратившись на волю, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но что интересы его сузились, стали бедными и грубыми.
Моральные барьеры отодвинулись куда-то в сторону. Оказывается, можно делать подлости и все же жить… Оказывается, что человек, совершивший подлость, не умирает… Он чересчур высоко ценит свои страдания, забывая, что у каждого человека есть свое горе.
К чужому горю он разучился относиться сочувственно – он просто его не понимает, не хочет понимать… Он приучился ненавидеть людей».
В рассказе «Сентенция» автор, как врач, анализирует состояние человека, единственным чувством которого осталась злоба. Самое страшное в лагере, страшнее голода, холода и болезней, – это унижение, сводившее человека до уровня животного.
Оно доводит героя до состояния, когда все чувства и мысли заменены «полусознанием». Когда смерть отступает и к герою возвращается сознание, он с радостью ощущает, что его мозг работает, а из подсознания выплывает забытое слово «сентенция».
Страх, который превращает человека в раба, описан в рассказе «Тифозный карантин». Герои произведения согласны служить главарям бандитов, быть их лакеями и рабами, ради удовлетворения такой привычной для нас потребности – голода.
Герой рассказа Андреев видит в толпе подобных холопов капитана Шнайдера, немецкого коммуниста, образованного человека, прекрасного знатока творчества Гете, который теперь исполняет роль «чесальщика пяток» у вора Сенечки. Такие метаморфозы, когда человек теряет свой облик, действуют и на окружающих.
Главному герою рассказа не хочется жить после того, что он видит.
«Васька Денисов, похититель свиней» – рассказ о голоде и о том, до какого состояния он может довести человека. Главный герой Васька жертвует жизнью ради еды.
Шаламов утверждает и пытается донести до читателя, что лагерь – это хорошо организованная государственная преступность. Здесь происходит умышленная подмена всех привычных нам категорий. Здесь нет места наивным рассуждениям о добре и зле и философским диспутам. Главное – выжить.
Несмотря на весь ужас лагерной жизни, автор «Колымских рассказов» пишет и о безвинных людях, которые смогли сохранить себя в поистине нечеловеческих условиях.
Он утверждает особый героизм этих людей, граничащий порой с мученичеством, для которого не придумано еще названия.
Шаламов пишет о людях «не бывших, не умевших и не ставших героями», ведь в слове «героизм» есть оттенок парадности, блеска, кратковременности поступка.
Рассказы Шаламова стали, с одной стороны, пронзительным по силе документальным свидетельством кошмаров лагерной жизни, с другой – философским осмыслением целой эпохи. Тоталитарная система представляется писателю тем же лагерем.
Источник: http://resoch.ru/kolymskie-rasskazy-shalamova-sochinenie/
“Колымские рассказы” В. Шаламова
Известно, как сильно повлиял на жизнь нашего общества целый пласт литературы, скрытый до недавнего времени от читателя. Это произведения М. Булгакова, А. Платонова, A. Ахматовой, Ю. Домбровского, писателей русского зарубежья – В. Набокова, А. Солженицына, В. Аксенова, B. Максимова и других.
Среди “возвращенных” произведений видное место занимает проза В. Шаламова.
Рассказать об ужасах лагерей людям с тем, чтобы это больше не повторилось, – вот чем жил писатель, испытавший в сталинских лагерях все: холод, голод, бесправие и побои.
Создание Колымского цикла он считал долгом перед погибшими товарищами.
Проза Шаламова – это не отдельные рассказы и очерки, а целостное единство, все элементы которого связаны между собой. “Собственная кровь – вот что сцементировало фразы “Колымских рассказов”, – пишет Варлам Тихонович.
Основными действующими лицами в прозе В. Шаламова являются осужденные за уголовные преступления, так называемые “блатари”; политические, т. е. осужденные по пятьдесят восьмой статье, в основном интеллигенты; те, кто поставлен для соблюдения лагерного порядка, “начальнички”.
Всматриваясь в уголовный мир вблизи, исходя из собственного опыта, Шаламов стремится прежде всего снять романтический ореол, которым традиционно окружала мир воров как оппозицию системе классическая литература. “Яд блатного мира невероятно страшен, – пишет Шаламов. – Отравленность этим ядом – растление всего человеческого в человеке. Этим зловонным дыханием дышат все, кто соприкасается с этим миром”.
В рассказе “Надгробное слово” показаны истории людей, с которыми писатель был знаком. У каждого из них своя судьба, свой характер.
Именно в этом рассказе наиболее отчетливо звучит тема жизни и смерти.
Автор дает своеобразную трактовку этой темы: живые люди в лагере немногим отличаются от мертвых: у них нет прошлого, нет и будущего. Все человеческие чувства в них угасли, душа человека омертвела.
Рассказ “На представку” – это эпизод из жизни “блатарей”. Ловкий шулер Севочка и бригадир Наумов играют в карты. Проигравший Наумов расплачивается немыслимой ценой – жизнью осужденного по пятьдесят восьмой статье Гаркунова, бывшего инженера-текстильщика.
Жизнь политического “фраера” ни во что не ставят. Политические -самые бесправные люди в лагере. Пространство, за пределы которого они не имеют права выходить, ограничивается вышками. И любой шаг в сторону может стоить жизни. Об этом напоминает рассказ “Ягоды”.
О бесправии “Иван Иванычей” (так называли политических) говорится и в рассказе “Артист лопаты”. Попавший в бригаду Косточкина Крис вначале радуется, что его бригадир – не “блатарь”.
Косточкин – сын репрессированного крупного партийного работника – в свои двадцать пять лет был осужден как член семьи “врага народа” на пятнадцать лет. Он отрекается от отца и такой ценой получает место бригадира. Однако даже став бригадиром, он остается зависимым от “блатарей”.
Чтобы обеспечить себе сносное существование, он совершает нравственное предательство по отношению к членам бригады, которые считали его своим.
Большинство заключенных понимали, что они обречены, что их сюда привезли на смерть. И хотя побеги всегда заканчивались неудачно, группа заключенных во главе с майором Пугачевым решила бежать: “если не убежать вовсе, то умереть – свободными”. О нескольких днях свободы и повествуется в рассказе “Последний бой майора Пугачева”.
Но даже в самые тяжелые минуты заключенные верили, что в их жизни может наступить просвет. И надеяться они могли только на медика. “Лагерная жизнь так устроена, -пишет В. Шаламов, – что действенную реальную помощь заключенному может оказать только медицинский работник”.
О гуманности врача, благодаря которой герой возвратился к жизни, говорится в рассказе “Домино”. Врач, чтобы как-то подкормить больного, дать ему окрепнуть, пригласил его к себе для игры в домино. Эта ситуация напоминает эпизод в рассказе В.
Распутина “Уроки французского”, где учительница, чтобы подкормить гордого мальчика, играет с ним в “пристенок”.
Когда читаешь рассказы В. Шаламова, сначала кажется, что их персонажи – люди на редкость пассивные. Они всегда жертвы, они бездеятельны. Их желания не распространяются далее того, чтобы на несколько часов попасть в тепло, достать лишний кусок хлеба…
Лагерь вытравливает все человеческое в человеке, стремясь превратить его в животное, оставив ему лишь примитивные потребности. Но затем понимаешь, что это не так. Герои рассказов сильны как раз своей духовностью, неистребимостью воли, стремлением сохранить способность и желание мыслить.
Это помогает им в конце концов выжить и остаться людьми.
Читая “Колымские рассказы”, ужасаешься тому, что все описанное в них случилось в нашем веке и что люди позволили этому быть. И как страшно, что писатель, рассказавший нам правду, умер в доме для инвалидов, без родной души рядом…
| Помогло сочинение? Потыкай кнопки ↓ |
Источник: http://sochinenie5ballov.ru/essay_2627.htm
Варлам Шаламов – Собрание сочинений. Том 1
— Вот как хорошо вас учили, — и я не мог не согласиться с ней.
Разумеется, я ни разу не был ни в кинематографе, ни на постановках культбригады, которая в Магадане, да и в больнице, была вполне грамотной и отличалась выдумкой и вкусом, какие могут пробиться сквозь цензурные заслоны КВЧ.
Магаданской культбригадой руководил в то время Л. В. Варпаховский, впоследствии главный режиссер Московского театра имени Ермоловой.
У меня не было времени, да и медленно раскрывающиеся тайны медицины интересовали меня гораздо больше.
Медицинская терминология перестала быть абракадаброй. Я брался за чтение медицинских статей и книг без прежнего бессилия и без страха.
Я уже не был человеком обыкновенным. Я обязан был уметь оказывать первую помощь, уметь разобраться в состоянии тяжелобольного хотя бы в общих чертах. Я обязан был видеть опасность, угрожающую жизни людей. Это было и радостно, и тревожно. Я боялся — выполню ли я свой высокий долг.
Я знал, как взяться за сифонную клизму, за аппарат Боброва, за скальпель, за шприц…
Я умел перестелить постельное белье у тяжелобольного и мог научить этому санитаров. Я мог объяснить санитарам — для чего производится дезинфекция, уборка.
Я узнал тысячу вещей, которых я не знал раньше, — нужных, необходимых, полезных людям вещей.
Курсы кончились, новых фельдшеров стали отправлять мало-помалу на места для работы. Вот и список, в руках конвоира список, в котором есть и моя фамилия. Но я сажусь в машину последний. Я везу больных на Левый берег.
Машина битком набита, я сажусь у самого края спиной к борту. Пока я усаживался, у меня сдвинулась рубашка, и ветер дует в щель борта машины. В руках у меня сверток с пузырьками: валерьянкой, ландышевыми каплями, с йодом, нашатырем.
В ногах — туго набитый мешок с моими учебными тетрадями фельдшерских курсов.
Не один год эти тетради были для меня лучшей опорой, пока наконец, во время моего отъезда, медведь, забравшийся в таежную амбулаторию, не изорвал в клочья все мои записи, переколов все банки и пузырьки.
1960
Синие глаза выцветают. В детстве — васильковые, превращаются с годами в грязно-мутные, серо-голубые обывательские глазки; либо в стекловидные щупальцы следователей и вахтеров; либо в солдатские «стальные» глаза — оттенков бывает много. И очень редко глаза сохраняют цвет детства…
Пучок красных солнечных лучей делился переплетом тюремной решетки на несколько меньших пучков; где-то посреди камеры пучки света вновь сливались в сплошной поток, красно-золотой. В этой световой струе густо золотились пылинки. Мухи, попавшие в полосу света, сами становились золотыми, как солнце. Лучи заката били прямо в дверь, окованную серым глянцевитым железом.
Звякнул замок — звук, который в тюремной камере слышит любой арестант, бодрствующий и спящий, слышит в любой час. Нет в камере разговора, который мог бы заглушить этот звук, нет в камере сна, который отвлек бы от этого звука.
Нет в камере такой мысли, которая могла бы… Никто не может сосредоточиться на чем-либо, чтобы пропустить этот звук, не услышать его. У каждого замирает сердце, когда он слышит звук замка, стук судьбы в двери камеры, в души, в сердца, в умы. Каждого этот звук наполняет тревогой.
И спутать его ни с каким другим звуком нельзя.
Звякнул замок, дверь открылась, и поток лучей вырвался из камеры. В открытую дверь стало видно, как лучи пересекли коридор, кинулись в окно коридора, перелетели тюремный двор и разбились на оконных стеклах другого тюремного корпуса.
Все это успели разглядеть все шестьдесят жителей камеры в то короткое время, пока дверь была открыта. Дверь захлопнулась с мелодичным звоном, похожим на звон старинных сундуков, когда захлопывают крышку.
И сразу все арестанты, жадно следившие за броском светового потока, за движеньем луча, как будто это было живое существо, их брат и товарищ, — поняли, что солнце снова заперто вместе с ними.
И только тогда все увидели, что у двери, принимая на свою широкую черную грудь поток золотых закатных лучей, стоит человек, щурясь от резкого света.
Человек был немолод, высок и широкоплеч, густая шапка светлых волос покрывала всю голову. Только приглядевшись, можно было понять, что седина давно уже высветлила эти желтые волосы. Морщинистое, похожее на рельефную карту лицо было покрыто множеством глубоких оспин вроде лунных кратеров.
Человек был одет в черную суконную гимнастерку без пояса, расстегнутую на груди, в черных суконных брюках галифе, в сапогах. В руках он мял черную шинель, изрядно потертую. Одежда держалась на нем кое-как — пуговицы были все спороты.
— Алексеев, — сказал он негромко, повертывая большую волосатую кисть руки ладонью к своей груди. — Здравствуйте…
Но к нему уже шли, ободряя его нервным, взрывчатым арестантским смехом, хлопали его по плечам, пожимали ему руки. Уже приближался староста камеры, выборное начальство, чтобы указать место новичку.
«Гавриил Алексеев», — повторял медведеобразный человек.
И еще: «Гавриил Тимофеевич Алексеев»… Черный человек отодвинулся в сторону, и солнечный луч уже не мешал видеть глаза Алексеева — крупные, васильковые, детские глаза.
Камера скоро узнала подробности жизни Алексеева — начальника пожарной команды нарофоминской фабрики — оттуда и черный, казенный костюм. Да, член партии с лета 1917 года. Да, солдат-артиллерист, принимал участие в октябрьских боях в Москве. Да, исключался из партии в двадцать седьмом году. Был восстановлен. И снова исключен — неделю тому назад.
Разно себя держат арестанты при аресте. Разломить недоверие одних — очень трудное дело. Исподволь, день ото дня привыкают они к своей судьбе, начинают кое-что понимать.
Алексеев был другого склада. Как будто он молчал много лет — и вот арест, тюремная камера возвратила ему дар речи.
Он нашел здесь возможность понять самое важное, угадать ход времени, угадать собственную свою судьбу и понять — почему.
Найти ответ на то огромное, нависшее над всей его жизнью и судьбой, и не только над жизнью и судьбой его, но и сотен тысяч других, огромное, исполинское «почему».
Алексеев рассказывал не оправдываясь, не спрашивая, а просто стараясь понять, сравнить, угадать.
С утра и до вечера он ходил взад-вперед по камере, огромный, медведеобразный, в черной гимнастерке без пояса, обняв кого-нибудь за плечи своей огромной лапой, и спрашивал, спрашивал… Или рассказывал.
— За что ж тебя исключили, Гаврюша?
— Да понимаешь как. Было занятие политкружка. Тема — Октябрь в Москве. А я ведь — мураловский солдат, артиллерист, две раны получил. Я лично наводил орудия на юнкеров, что были у Никитских ворот.
Мне говорит преподаватель на занятии: «Кто командовал войсками Советской власти в Москве в момент переворота?» Я говорю — Муралов, Николай Иванович. Я хорошо его знал, лично.
Как я скажу иначе? Что я скажу?
Источник: https://libking.ru/books/prose-/prose-rus-classic/186278-151-varlam-shalamov-sobranie-sochineniy-tom-1.html
Шаламов – Колымские рассказы
Шаламов – Колымские рассказы
Варлам Шаламов – один из самых великих русских писателей 20-го столетия, человек несгибаемого мужества и ясного, пронзительного ума. Он оставил после себя поразительное по глубине и художественности наследие – Колымские рассказы, рисующие безжалостно правдивую и пронзительную картину жизни и человеческих судеб в сталинском ГУЛАГе.
Колымские рассказы стали для Шаламова попыткой поставить и решить самые важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на ином материале. Это, прежде всего, вопрос о правомерности борьбы человека с государственной машиной, о возможности активно влиять на свою судьбу, о путях сохранения человеческого достоинства в нечеловеческих условиях.
Трудно даже представить, какого душевного напряжения стоили Шаламову эти рассказы. Он как бы многократно заново вызывал к жизни призраки жертв и палачей. Художественно-конкретные, документальные рассказы Шаламова напоены мощной философской мыслью, которая придает им особую интеллектуальную емкость. Эту мысль невозможно запереть в барак. Ее духовное пространство составляет все человеческое бытие.
Удивительным качеством Колымских рассказов является их композиционная целостность при кажущейся на первый взгляд несвязности сюжетов. Колымская эпопея состоит их 6 книг, первая из которых так и называется – Колымские рассказы, а к ней примыкают книги Левый берег, Артист лопаты, Очерки преступного мира, Воскрешение лиственницы, Перчатка, или КР-2.
Книга Колымские рассказы состоит из 33 рассказов, стоящих в строго определенном, но не хронологическом порядке. Этот порядок позволяет увидеть сталинские лагеря как живой организм, со своей историей и развитием.
И в этом смысле Колымские рассказы представляют собой не что иное, как роман в новеллах, несмотря на многочисленные заявления самого автора о смерти в ХХ веке романа как литературного жанра. Рассказ ведется постоянно от третьего лица, но главный герой большинства рассказов, выступая под разными фамилиями (Андреев, Голубев, Крист), предельно близок к автору.
Его кровная причастность к описываемым событиям, исповедальный характер повествования ощущается везде. Если читать Колымские рассказы не по отдельности, а целиком, как роман, они производят наиболее сильное впечатление.
Они показывают кошмар нечеловеческих условий так, как его только и можно показать – без нагнетания чувствительности, без психологических изысков, без лишних слов, без стремления поразить читателя, сурово, лаконично и точно. Но лаконизм этот – спрессованный до предела гнев и боль автора.
Эффект воздействия этой прозы – в контрасте спокойствия автора, его неспешного, спокойного по форме повествования и взрывного, сжигающего содержания. Образ лагеря в рассказах Шаламова – это, на первый взгляд, образ абсолютного зла. Постоянно приходящая на ум метафора ада подразумевает не только нечеловеческие муки заключенных, но и другое: ад – это царство мертвых.
В рассказах Шаламова, попав в ледяное царство Колымы, увлекаемый этим новым Вергилием, следуешь за ним почти машинально и не можешь остановиться, пока не дойдешь до конца. Один из рассказов, “Надгробное слово”, так и начинается: “Все умерли. . .
” Писатель по очереди воскрешает в памяти тех, с кем встречался и кого пережил в лагерях: своего товарища, расстрелянного за невыполнение плана его участком, французского коммуниста, которого бригадир убил одним ударом кулака, своего однокурсника, с которым встретились через 10 лет в камере Бутырской тюрьмы. . . Смерть каждого из них выглядит как нечто неизбежное, будничное, обыденное.
Смерть – это не самое страшное – вот, что поражает больше всего. Чаще она не трагедия, а спасение от мук, если это своя смерть, или возможность извлечь какую-либо выгоду, если чужая.
В другом рассказе с леденящим душу спокойствием автор рассказывает, как два лагерника выкапывают из промерзшей земли только что захороненный труп, радуясь своей удаче – белье мертвого они завтра променяют на хлеб и табак (“Ночь”). Немыслимый голод – самое сильное из всех колымских чувств. Но и еда превращается лишь в утилитарный процесс поддержания жизни.
Все заключенные едят очень быстро, боясь лишиться и без того скудного пайка, едят без ложек, через борт тарелки, лочиста вылизывая языком ее дно. В этих условиях человек дичает. Один юноша ел мясо человеческих трупов из морга, вырубая куски человечины, “не жирные, конечно” (“Домино”). Быт заключенных – еще один круг колымского ада.
Подобия жилищ – огромные бараки с многоэтажными нарами, вмещающими по 500-600 человек, матрасы, набитые только сухими ветками, одеяла с серыми буквами “ноги”, полная антисанитария, болезни – дистрофия, пеллагра, цинга, – которые вовсе не являются поводом для госпитализации. . .
Так шаг за шагом читатель все больше узнает и становится свидетелем обесценивания человеческого существования, обесценивания личности, полной девальвации понятий о добре и зле. Тема растления души человека становится лейтмотивом для автора Колымских рассказов.
Он считал ее одной из самых важных и сложных для писателя: “Вот главная тема времени – растление, которое Сталин внес в души людей” Еще одна важная особенность рассказов Шаламова связана с тем, что ГУЛАГ рассматривается им как точная социально-психологическая модель тоталитарного, сталинского общества: “. . . Лагерь – не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни. . . Лагерь . . . мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном” Другая яркая черта, роднящая лагерь с вольным миром – безнаказанность власть имущих. Картины их зверств – почти сюрреалистические. Они обворовывают, калечат и убивают заключенных, берут взятки, совершают подлоги. Им разрешены любые жестокости, особенно в отношении слабых, тех, кто болен, кто не выполняет норму. Рассказы Шаламова – очень жестокие по своим сюжетам. Очень горькие и беспощадные. Но они не подавляют душу – не подавляют, благодаря огромной нравственной силе героев: Криста, Андреева, Голубева или самого рассказчика – благодаря силе их внутреннего морального сопротивления. Эти герои повидали в лагерях все ступени низости и душевного падения, но сами устояли. Значит, как ни трудно, но устоять все же можно. Даже в колымском аду! Это, вероятно, и есть главный урок Шаламова для нас, его читателей. Нравственный урок для настоящего и будущего, без поучений и морализирования.
просмотров: 2714
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX Search Results from «Озон» Художественная литература, Бестселлеры.
Дети мои Гузель Яхина – автор Тотального диктанта в 2018 году: три отрывка из нового романа «Дети мои» задействованы в одной из самых масштабных просветительских акций в России.«Дети мои» – новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза».Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.«Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья – ярком, самобытном, живом – о мире, когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно помогает их превозмочь». Гузель Яхина Гузель Яхина – писатель, лауреат премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». Родилась в Казани, окончила Казанский государственный педагогический институт, сценарный факультет Московской школы кино. Дебютный роман «Зулейха открывает глаза» стал ярким событием в литературе, отмечен ведущими литературными премиями. Издан тиражом более 200 тыс. экз. и переведен на 30 языков. В 2018 года Гузель Яхина стала автором «Тотального диктанта». Три текста для разных часовых поясов, названные «Утро», «День» и «Вечер» – избранные отрывки из романа «Дети мои». Цитата: «Дети не боялись ничего. В их доверчивых взорах и открытых лицах Бах узнавал то же бесстрашие, что наблюдал с рождения в глазах Анче. Голоса детей были полны веры и страсти, а улыбки – любви и надежд. Движения их были свободны, радостны, и они несли эту радость и эту свободу с собой – на покровские улицы, в тесные пространства местных рабочих клубов, театров, читален. Детей не пугали рыбьи и мышиные морды взрослых – возможно, дети их попросту не замечали: они проходили сквозь чужие страхи – как через мелкий брод, оставаясь при этом сухими. Мир распадался надвое: мир испуганных взрослых и мир бесстрашных детей существовали рядом и не пересекались».
…
Цена:
594 руб
Понедельник начинается в субботу “Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста” – под таким заголовком в 1965 году вышла книга, которой зачитывались и продолжают зачитываться все новые и новые поколения. Герои ее, сотрудники НИИЧАВО – Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства, – маги и магистры, молодые энтузиасты, горящие желанием познать мир и преобразовать его наилучшим образом. На этом пути их ждет множество удивительных приключений и поразительных открытий. Машина времени и изба на курьих ножках, выращивание искусственного человека и усмирение выпущенного из бутылки джинна – читатель не заскучает!…
Цена:
169 руб
Жажда жизни Винсент Ван Гог — гениальный безумец, при жизни испытавший и презрение критиков живописи, и полное непонимание собратьев по кисти, а после смерти признанный великим художником. Его манера писать казалась странной и нелепой даже привыкшим к творческим экспериментам обитателям Монмартра. Его либо равнодушно отвергали, либо цинично использовали женщины. Над ним посмеивались друзья. Его жалели родные… Именно Ван Гогу посвящен самый известный биографический роман Ирвинга Стоуна, который выдержал более 30 изданий только на родном языке и был переведен на 30 иностранных языков. В процессе его создания Стоун, по его собственным словам, “прошел пешком по югу Франции, жил в психиатрической больнице, куда поместили Ван Гога, и, наконец, спал в той же самой комнате и на той же постели в маленькой гостинице в Овере в годовщину его смерти”…
Лучшие книги для подростков – статья на OZON Гид….
Цена:
202 руб
Идиот “Главная идея… – писал Ф.М.Достоевский о своем романе “Идиот”, – изобразить положительно-прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете…” Не для того ли писатель явил миру “князя-Христа”, чтобы мы не забывали: “Страдание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества”.
Каждое новое поколение по-своему воспринимает классику и пытается дать собственные ответы на вечные вопросы бытия. Об этом свидетельствуют и известные экранизации романа, его сценические версии. В России запоминающиеся образы князя Мышкина создали Ю.Яковлев, И.Смоктуновский, Е.Миронов….
Цена:
155 руб
Аэропорт АЭРОПОРТ – роман-бестселлер Артура Хейли, вышедший в 1968 году. Вымышленный город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме. На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой, начиная от сгинувшей непонятно где машины с продуктами до страшной аварии на борту одного из самолетов. А ко всему прочему добавляются обострившиеся личные проблемы героев, их сложные душевные драмы – вот в такой запутанный клубок сюжетных линий завяжется действие романа, уместившееся в один пятничный вечер.
По роману АЭРОПОРТ в 1970 году был снят фильм с ведущими голливудскими актерами – десять номинаций на премию “Оскар”! После этой экранизации вышли еще три сиквела….
Цена:
210 руб
Нетопырь Харри Холе прилетает в Сидней, чтобы помочь в расследовании зверского убийства норвежской подданной. Австралийская полиция не принимает его всерьез, а между тем дело гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Древние легенды аборигенов оживают, дух смерти распростер над землей черные крылья летучей мыши, и Харри, подобно герою, победившему страшного змея Буббура, предстоит вступить в схватку с коварным врагом, чтобы одолеть зло и отомстить за смерть возлюбленной.
Это дело станет для Харри началом его несколько эксцентрической полицейской карьеры, а для его создателя, Ю Несбё, – первым шагом навстречу головокружительной мировой славе….
Цена:
168 руб
Марш одиноких Сегодня Сергей Довлатов – один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ века. Его произведения – та самая великая классика, которая при всем своем масштабе остается простой, занятной и доступной любому читателю, независимо от возраста, национальности, начитанности или, говоря словами самого Довлатова, “степени интеллектуальной придирчивости”. Лев Лосев сформулировал это в простейшей фразе: “Довлатов знал секрет, как писать интересно”.
В 1980-1982 годах Довлатов вел рубрику в еженедельнике “Новый американец”, являясь его главным редактором. Настоящая книга предлагает вниманию читателей собрание избранных статей той эпохи и дает яркое представление еще об одной грани необыкновенного таланта автора….
Цена:
139 руб
Сто лет одиночества Одна из величайших книг XX века. Странная, поэтичная, причудливая история города Ма-кондо, затерянного где-то в джунглях, – от сотворения до упадка. История рода Буэндиа – семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан Буэндиа порождает святых и грешников, революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов – и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни. В нем кипят необычайные страсти – и происходят невероятные события.
Однако эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным “волшебным зеркалом”, сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки……
Цена:
295 руб
Повелитель мух Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. История благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на необитаемом острове. Философская притча о том, что может произойти с людьми, забывшими о любви и милосердии. Гротескная антиутопия, роман-предупреждение и, конечно, напоминание о хрупкости мира, в котором живем мы все….
Цена:
168 руб
Не жизнь, а сказка
О чём может рассказать первый главный редактор российского Vogue, основательница русской версии Andy Warhol's Interview, легендарная московская красавица, чьё имя стало синонимом качественной глянцевой журналистики? О том, как она вывела в свет Наталью Водянову? О том, чего стоит дружба Наоми Кэмпбелл и Леонардо ДиКаприо? О том, каково это – держаться на олимпе не один десяток лет, оставаясь при этом настоящим человеком?
Дочь знаменитого хирурга С.Я. Долецкого, внучка первого директора ТАСС Я.Г. Долецкого со свойственной ей иронией и пронзительной искренностью покажет, что скрыто за маской сказочной dolce vita.
Цена:
669 руб
Источник: http://www.bookposter.ru/sochinenia/36403.shtml
Пример сочинения ЕГЭ по тексту В.Т. Шаламова
Views: 2202
Мне шестьдесят лет. Я горжусь, что за всю свою жизнь я не убил своей рукой ни одного живого существа, особенно из животного мира. Я не разорил ни одного птичьего гнезда, не умел стрелять из рогатки, не держал в руках охотничьего ружья и иного оружия.
Это привело меня к глубокому конфликту с моей семьей, отдалило от отца.
Я не вегетарианец, не толстовец, хуже, чем толстовская фальшь, нет на свете.
Я умею мстить.
— Ты всегда был не такой, как все. Все смеялись над тобой, и отец твой тоже. Что ты не разорял гнезд, не стрелял из рогатки. Мне было за тебя стыдно. Стыдно! – говорила мне мама. А я вымыл ей ноги — ей было очень трудно сгибаться на уродливых руках, вымыл их теплой водой и поцеловал.
И мама заплакала.
Два старших сына знали в совершенстве оружие, а Сергей стрелял — до самой своей смерти был лучшим, чуть не легендарным охотником города.
Мои вкусы были иные, и я их сумел защитить, несмотря на насмешки.
Отец сам меня учил, как снимать шкуру с зайцев, кроликов.
Но я никого не зарезал, ни одного кролика, ни одной козы, ни одной курицы.
Нанимать для этого кого-то, для такой работы было нельзя. Кто убивал кроликов, я не знаю. Думаю, что отец — ощупью в сарае.
Охота с ружьем не разрешается православному духовенству, но рыбная ловля даже рекомендовалась. Охотничья страсть отца нашла разрядку в рыбной ловле. В Америке же, на Алеутских островах, где отец был православным миссионером, более десяти лет охотился, его страсть находила выход.
Я видел много американских фотографий отца с ружьем, стреляет — на байдарке.
Однажды поймали большую рыбу, щуку, и я думал, что ее отпустят сейчас назад в реку, где она… Но щука выскочила на песок и билась, каждым прыжком приближаясь к воде!
Но это были сети отца, лодка отца, и, наконец, ему принадлежала честь убийства. Прыгнув, отец ухватил бьющуюся щуку за голову, пальцы, суставы в жабры, колени прижали светлое тело рыбы к песку, из кармана отец выхватил перочинный нож…
Как я ненавидел потом этот стальной нож — стальной белый нож перочинный с двумя лезвиями и отверткой. Я не взял нож на память об отце, когда отец умер — в 1933 году.
(По Варламу Шаламову)
Варлам Тихонович Шаламов (5 июня 1907 – 17 января 1982 года) – русский прозаик и поэт советского времени. Создатель одного из литературных циклов о советских лагерях «Колымские рассказы».
Животные. Имеем ли мы право убивать и мучить их? Именно эту проблему поднимает В. Т. Шаламов в предложенном для анализа тексте.
Размышляя над этим вопросом, автор текста приводит пример из собственной жизни и рассказывает о том, что никогда не разорял гнёзд, не стрелял из рогатки, никогда не держал в руках оружие. В.Т. Шаламов с нескрываемым волнением вспоминает, как ему жалко было большую щуку, убитую его отцом. Но при всей своей жалости к животным автор текста не вегетарианец.
Позиция автора текста по поднятой проблеме выражена ясно и однозначно. В.Т. Шаламов убеждён: мы имеем право убивать животных только для получения пищи.
Я согласна с позицией автора исходного текста и тоже считаю: убивать животных можно ради получения еды.
Об этом неоднократно говорили в своих произведениях русские писатели-классики. Вспомним рассказ М.А. Шолохова «Алёшкино сердце». В этом произведении показана деревня, на которую обрушился голод. Бедные жители её выглядели ужасно, они ели всё – даже кору деревьев. А мясо было для них мечтой.
Когда Алёшка, один из главных героев произведения, нашёл мёртвого жеребёнка, он очень обрадовался и по частям принёс его домой. Это говорит о том, что в деревне вообще было очень мало животных – многие были съедены. Если бы люди отказались от мяса, то намного больше бы жителей умерло от голода.
Таким образом, мы можем убивать животных ради пищи.
С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года длилась блокада Ленинграда. Запасы пищи в городе очень быстро закончились, и наступил страшный голод. От голодной смерти умирали многие, и трупы валялись везде: на улицах, на лестницах, в подъездах… И люди проходили мимо них с безразличием, и убирать трупы было некому. Обстановка была ужасающей.
В городе были съедены все, абсолютно все животные. Но разве был у людей иной выход? Если бы они не съели животных, больше бы людей и намного быстрее умерло бы от голода. Кто бы тогда защищал Ленинград? Скорее всего, город бы просто пал, немцы уничтожили бы его.
Следовательно, нет ничего аморального в том, чтобы убивать животных для употребления их в пищу.
В заключение важно отметить: я очень не люблю, когда живых существ мучают бесцельно или с целью обогатиться и подпитать тщеславие. Но я уверена, что в убийстве животных для получения еды нет ничего безнравственного. Когда ваши дети умирают от голода, вы будете размышлять о том, убивать животное или нет?
Какие ещё аргументы можно привести для доказательства данной точки зрения?
Источник: http://physmath.tech/primer-sochineniya-ege-po-tekstu-v-t-shalamova/
Сочинение по циклу «Колымских рассказов» Шалимова
«Колымские рассказы» — сборник рассказов, вошедший в колымскую эпопею Варлама Шаламова. Автор сам прошел через этот «самый ледяной» ад сталинских лагерей, поэтому каждый его рассказ абсолютно достоверен.
В «Колымских рассказах» отражена проблема противостояния личности и государственной машины, трагедии человека в тоталитарном государстве. Причем показана последняя стадия этого конфликта — человек, находящийся в лагере.
И не просто в лагере, а в самом страшном из лагерей, воздвигнутом самой бесчеловечной из систем. Это максимальное подавление государством человеческой личности.
В рассказе «Сухим пайком» Шаламов пишет: «нас ничто уже не волновало «нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчинясь приказу, распорядку лагерного дня…
Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали на нашу жизнь далее, как на день вперед… Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным». Точнее, чем автор, не скажешь, и самое страшное, что воля государства полностью подавляет и растворяет в себе волю человека.
Она же лишает его всех человеческих чувств, стирает грань между жизнью и смертью.
Постепенно убивая человека физически, убивают и его душу. Голод и холод делают с людьми такое, что становится страшно. «Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — шли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего голодания.
В том незначительном мышечном слое, который еще оставался на наших костях… различалась только злоба — самое долговечное человеческое чувство».
Ради того, чтобы поесть и согреться, люди готовы на все, и если они не совершают предательства, то это подсознательно, машинально, так как само понятие предательства, как и многое другое, стерлось, ушло, исчезло. «Мы научились смирению, мы разучились удивляться.
У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и старость казались нам марсианскими понятиями и притом пустяками… Мы понимали, что смерть нисколько не хуже чем жизнь». Нужно только представить себе жизнь, которая кажется не хуже смерти.
В человеке исчезает все человеческое. Государственная воля подавляет все, остается только жажда жизни, великая выживаемость: «Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой…
и я понял самое главное, что стал человеком не потому, что он божье создание, а потому, что он был физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил духовное начало успешно служить началу физическому».
Вот так, вопреки всем теориям о происхождении человека.
Все-таки человек как высшее существо и в таких адских условиях, под таким тяжким гнетом не разучился думать. В рассказе «Шерри-бренди « описывается смерть поэта в лагере. Ему «приятно было сознавать, что он еще может думать». У этого поэта в рассказе нет даже имени, но есть другое: перед смертью ему открывается истина, он понимает всю свою прожитую жизнь.
И что же такое жизнь поэта? «Стихи были той животворящей силой, которой он жил. Именно так. Он не жил ради стихов, он жил стихами. Сейчас было так наглядно, так ощутимо ясно, что вдохновение и было жизнью: перед смертью ему дано было узнать, что жизнь была вдохновением, именно вдохновением. И он радовался, что ему дано было узнать эту последнюю правду».
Если в рассказе «Шерри-бренди» Шаламов пишет о жизни поэта, о ее смысле, то в первом рассказе, который называется «По снегу», Шаламов говорит о назначении и роли писателей, сравнивая ее с тем, как протаптывают дорогу по снежной целине. Писатели — именно те, кто протаптывает ее.
Есть первый, кому тяжелее всех, но если идти только по его следам, получится лишь узкая тропинка. За ним идут другие, и протаптывают ту широкую дорогу, по которой ездят читатели. «И каждый из них, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след.
А на тракторах и лошадях ездят не писатели, а читатели».
И Шаламов не идет по протоптанной дороге, он наступает на «снежную целину». «Писательский и человеческий подвиг Шаламова — в том, что он не только вынес 17 лет лагерей, сохранил живой свою душу, но и нашел в себе силы вернуться мыслью и чувством в страшные годы, высечь из самого долговечного материала — Слова — воистину Мемориал в память погибших, в назидание потомкам».
Тема трагической судьбы русского человека в тоталитарном государстве возникает в русской литературе уже в 1920-х годах, когда само становление тоталитарного государства еще только намечалось. Оно было предугадано писателем Е.
Замятиным в романе «Мы» в образе Единого Государства, в котором человек с его индивидуальностью почти уничтожен, све ден к «нумеру», где все одеты в одинаковые одежды и обязаны быть счастливыми, хотят они того или нет. Роман Е. Замятина прозвучал предупреждением, которое не дошло до советского читателя.
Государство вскоре начало активно вмешиваться в его судьбу, в чем-то воплощая в жизнь мрачную фантазию Е. Замятина, в чем-то далеко ее превосходя. Общим было одно — отношение к личности как к строительному материалу, обесценивание человека, его жизни.
Особенно трагический оборот все это приобретало в годы, когда шло массовое истребление целых слоев населения по различным признакам — уничтожение дворян, расказачивание, раскулачивание, наконец, 1937—1938 годы — пик «большого террора», страшные годы ежовщины, которые сменились долгими десятилетиями бериевщины.
В русской литературе все эти трагические события долгие годы были абсолютно запретной темой. До читателя своевременно так и не дошло написанное еще в 30-х годах стихотворение О. Мандельштама, разоблачающее Сталина; стихотворения о трагедии матерей, которые растили детей «для плахи, для застенка и тюрьмы» А. Ахматовой и ее поэма «Реквием»; повесть Л. Чуковской «Софья Петровна» и многие другие произведения, только в последние десятилетия XX века возвращенные нам.
Попыткой нарушить вынужденный заговор молчания, сказать читателю правду о страшных годах террора, о трагедии личности стало творчество таких писателей, как Юрий Домбровский (романы «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей»).
К этой теме обращается и писатель Варлам Шаламов, человек трагической судьбы, долгие годы проведший в страшных колымских лагерях. Он стал автором потрясающих по силе психологического воздействия произведений, своеобразного колымского эпоса, рассказавшего беспощадную правду о жизни людей в лагерях.
Человек в нечеловеческих условиях — так можно обозначить сквозную тему «Колымских рассказов» В. Шаламова. Попадая в лагерь, человек как бы теряет все, что связывает его с нормальной средой обитания, с прежним опытом, который теперь неприменим. Так у В. Шаламова появляются понятия «первая жизнь» (долагерная) и «вторая жизнь» — жизнь в лагере.
Писатель не щадит читателя, в его рассказах появляются страшные подробности, которые невозможно воспринимать без душевной боли, — холод и голод, порой лишающие человека рассудка; гнойные язвы на ногах; жестокий беспредел уголовников, считавшихся в лагерях «друзьями народа» в отличие от политических заключенных, прежде всего интеллигентов, которых называли «врагами народа» и которые были отданы в полную власть уголовникам.
Страницы: 1 2
Источник: http://www.rlspace.com/sochinenie-po-ciklu-kolymskix-rasskazov-shalimova/